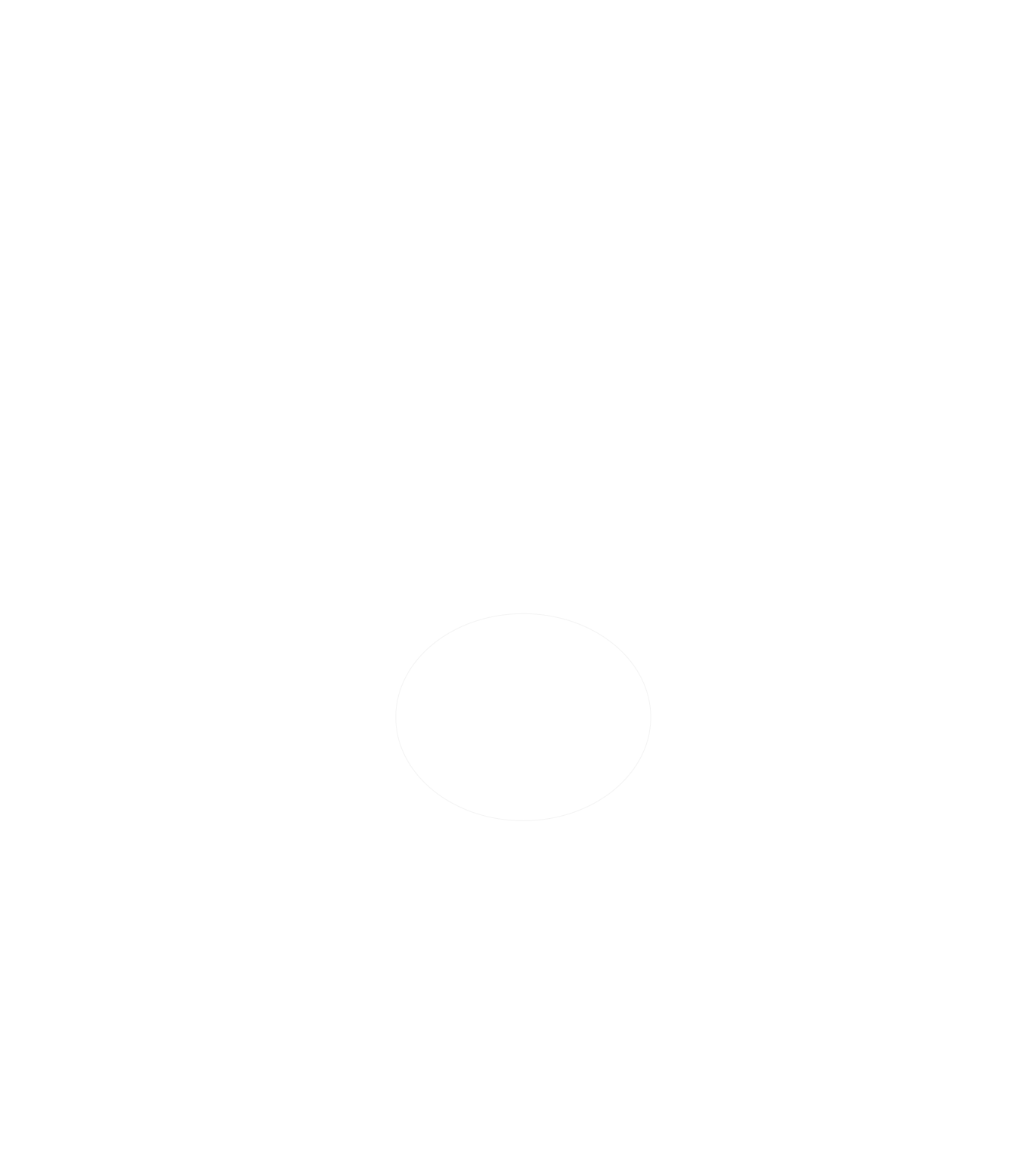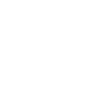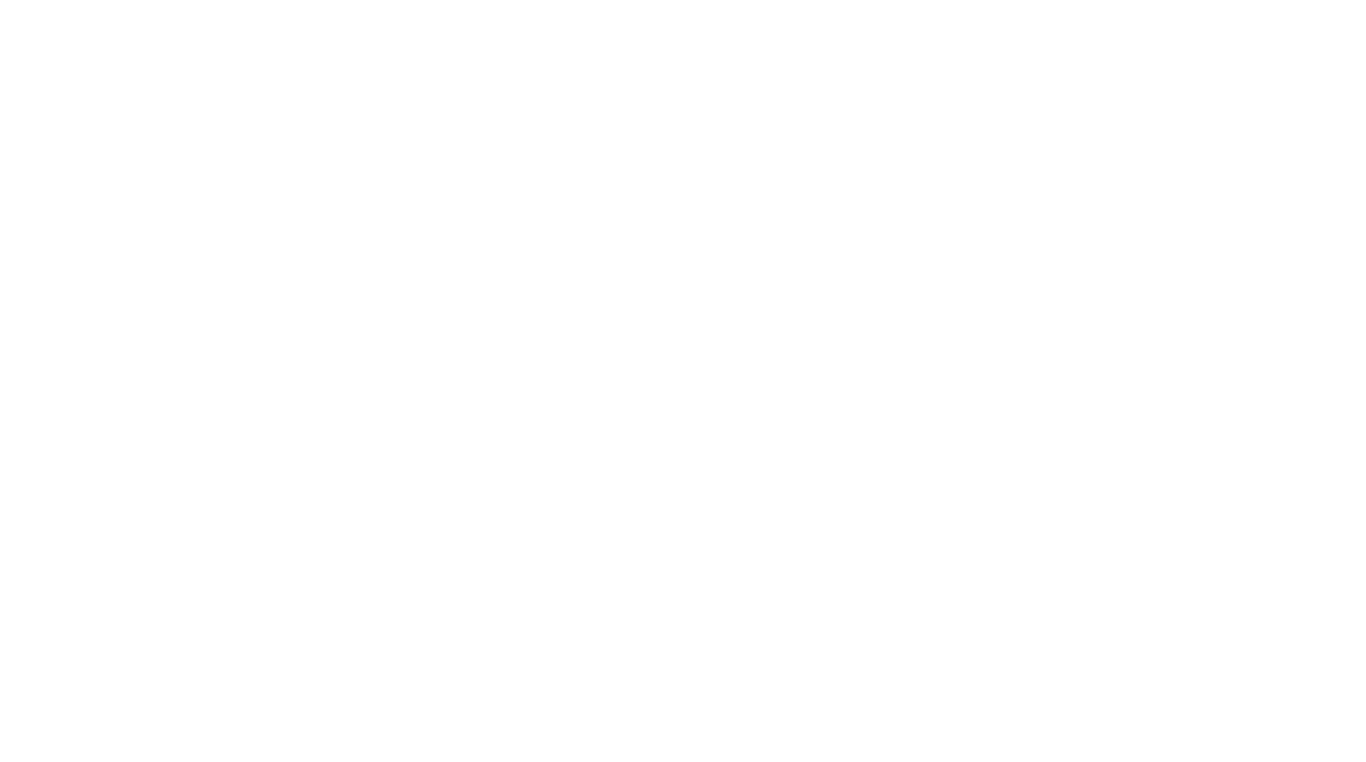«Январь 1961 года. Таруса
Дорогая Нинуша! У меня к тебе огромная просьба, которую ты, несомненно, всем сердцем поймешь. Я собираю (и небезуспешно, о чем расскажу при встрече) мамино и о маме. Время летит быстро, память слабеет, тускнеет, и я тороплюсь у него, времени, вырвать все, что только возможно, о маме. Запиши, дружок, для меня то, что тебе помнится о ней. Ты ведь была последним человеком, видевшим ее накануне отъезда, очень незадолго до смерти. Хорошо бы записать все, что помнится: как и где ты видела ее в первый раз? Что запомнилось из последующих встреч? Что запомнилось из слов, из разговоров? Какой показалась внешность? Теперь, Нинуша, каждая мелочь бесценна, и то, что помнишь ты, – не помнит уже больше никто.
Мама очень полюбила тебя, о чем писала мне – еще успела написать – в Коми. И ты ее полюбила искренне. И единственное, что можем сделать мы – любимые и любящие, единственное, чем можем победить ее смерть, – это запечатлеть ее живую… И не задумывайся над тем, “как” писать. Всякие подобные раздумья только тормозят. Пиши так просто, как письмо. Аля»
И я написала ей письмо.
«Я очень хорошо помню, Аля, как в первый раз увидела твою маму. Это было у вас на даче, в Болшеве, куда ты пригласила меня на воскресенье, чтобы познакомиться с Мариной Ивановной. Приехала я довольно рано, ты меня встретила и пошла за мамой в комнаты, а я осталась на большой пустой террасе и с некоторым смущением ждала, когда появится Марина.
Марина вышла на террасу своей легкой быстрой походкой и очень просто, как со старой знакомой, поздоровалась со мной: “Нина, милая, здравствуйте». И как-то сразу мне стало самой легко, просто и весело.
Одета она была в широкую летнюю юбку и блузку с короткими рукавами, а сверху был надет поразивший тогда меня фартук – синий, с большими карманами, закрывавший всю юбку. Была она очень изящная. Волосы, по-моему, уже тогда с сильной сединой, коротко стрижены, лицо молодое, чуть холодноватое и очень строгое. Взгляд внимательный, пытливый. Как живую вижу ее сейчас перед собой.
Помню, какой это был хороший, легкий и веселый день. Вечером, когда я собиралась уже уезжать, Марина ушла в комнату, быстро вернулась, неся в руках бусы из голубого хрусталя. “Нина, это Вам. Они очень подойдут к Вашим глазам”. От счастья я была на десятом небе, хотя в глубине души чувствовала себя без вины виноватой перед тобой, ибо к твоим глазам они пошли бы не меньше, и я понимала, что тебе хотелось бы их иметь тоже. Марина сказала: “Дайте я Вам их надену, в первый раз всегда так трудно завернуть этот бочоночек у застежки!”
Эти бусы самые дорогие до сих пор для меня, и потому что они очень красивы, и потому, что их мне подарила и надела на меня Марина Цветаева. Она сказала еще: “Это из Чехии”»…
Кто же эта Нинуша, Ниночка – задушевная подруга Ариадны Эфрон?

Н.П. Прокофьева (Гордон). Москва. Начало 1930-х
Ниночка Прокофьева – блистательная стенографистка, секретарь и помощница Михаила Кольцова.
Нина Павловна – литературный секретарь Константина Симонова, его преданный друг до кончины.
Нина Павловна Гордон – жена «врага народа», чудом выжившего политзаключенного, последовавшая за мужем в ссылку…
…Хрупкая маленькая, совершенно седая женщина с молодыми, необыкновенно голубыми глазами – возраст и болезни не смогли погасить их света. И сколько же в Нине Павловне ощущалось силы, упорства, ясного и конкретного представления о чести, долге, о человеческом предназначении. В свои почти 90 лет она «стенографически» помнила чуть ли не каждый прожитый день. В ее жизни все так сплелось, что невозможно было вычленить главного, развести линии судьбы. Она рассказывала о тех, кого любила, с кем была соединена радостями, горем, чьи страдания считала своими. Она прошла сквозь испытания, которых хватило бы на десятерых. Не сломалась. Не замкнулась. Не перестала доверять людям. Она всегда писала и рассказывала о других, и почти никогда – о себе. Так сложилась судьба Нины Павловны, что все личное стало с годами достоянием истории, литературы, а каждое ее слово – документом.

Самолет АНТ-20 «Максим Горький»
В 1935 году Михаил Кольцов задумал организовать агитэскадрилью имени Максима Горького – летающую редакцию! И на первом, флагманском, корабле, огромном восьмимоторном АНТ «Максим Горький» должна была лететь и его ближайшая помощница Нина Павловна. Вместе с ней Михаил Ефимович ездил к Туполеву, который отдал распоряжение изготовить для Нины персональный рабочий столик… Уже сшита летная форма «с крылышками», а курносый веселый летчик Ваня Михеев успокаивает Нину Павловну, которая раньше никогда не поднималась в воздух: «Чего же бояться, Ниночка?!»
Накануне полета ее свалила жестокая ангина. Жар не спадал и утром. Мама была непреклонна. А вечером в дом пришла жена Кольцова, Елизавета Николаевна. Она посмотрела на Нину огромными грустными глазами и сказала: «Какое счастье Ваша ангина, Ниночка».
Трагическая весть о катастрофе, происшедшей с гигантским авиалайнером «Максим Горький», облетела весь мир. Флагманский корабль врезался в самолет сопровождения. Все погибли. Это было 18 мая 1935 года.
Господь ли сохранил Нину или на роду ей было написано всегда идти по краю – не скажет никто и никогда. Но этот кошмар, разразившийся в небе, стал для нее предзнаменованием в самом начале жизненного пути.
«Со своим будущим мужем, Иосифом Давыдовичем Гордоном, я познакомилась через мою школьную подругу, его двоюродную сестру. В 1936 году я сломала ногу и лежала у Склифосовского. Приходит Вавка и говорит, что Юзька вернулся из Франции. Я как-то совершенно безотчетно говорю ей: «Он что, с ума сошел?» Ведь в 1936 уже сажали… Она говорит: «Но ведь у него кончился паспорт». А паспорт тогда давали на 10 лет. Он жил там по советскому паспорту, так как поехал к родственнице, чтобы учиться в киношколе и подлечить слабые легкие. Когда меня выписали из больницы, ко мне пришли друзья. Вавка сказала, что она придет с Юзькой. Можно? Я говорю – можно. Мы сидели за чайным столом. Раздался звонок в дверь, я пошла открывать. Я до сих пор его помню.

И.Д. Гордон. Париж. 1936
Передо мной стоял парижанин: в светлом реглане – была теплая весна – перчатки на одной руке, и в этой же руке он держал коробку конфет. Мы вошли с ним в комнату, и я его представила своим друзьям. А у меня в гостях был такой Мишка Гринев, с которым я работала в Жургазе, и он рассказывал всякие глупые, но смешные вещи. И мне было очень неудобно, что он это говорит при чужом человеке. Юз сидел с каменным лицом, а потом, когда Мишка сказал очередную глупость, он вдруг захохотал во все горло, и всем сразу стало легко, и все продолжалось как нельзя лучше. Так я с ним познакомилась».
8 ноября 1936 года в ЗАГСе в Рахмановском переулке они «расписались». Иосиф Давыдович уже работал на Мосфильме режиссером по монтажу, а Нина Павловна – у Кольцова.

А.С. Эфрон в окрестностях Ниццы. 1936
Весной 1937 из Франции приехала Аля Эфрон, которая хорошо знала Юза – ведь в Париже они были в одной компании!


Л.С. Бараш и И.Д. Гордон. Париж. Начало 1930-х гг.
Н.Б. и А.В. Соллогуб в пригороде Парижа. Около 1933 г.

Артисты школы-студии Михаила Чехова. В нижнем ряду: второй слева –
И. Гордон, первый справа – В. Бараш, вторая справа – Е. Барто. ( Фото из буклета «Спектакли Михаила Чехова и его студийцев». Париж, 1931)
Брат и сестра Бараши (Володя и Лёлька), которые учились вместе с Юзом в киношколе, их однокашник Володя Познер (старший), спортсмен и красавец – друзья за необыкновенную внешность прозвали его «Гарри Купер для бедных» («ведь должен же и у нас быть свой кумир!»), Ляля Барто, игравшая в студии Михаила Чехова, где и познакомилась с Гордоном, художница Ирочка Серова, дочь известного в эмиграции доктора, и ее друзья – молодожены Наташа и Андрей Соллогуб. Аля примкнула к ним около 1934 года, ведь она с детства дружила с Наташей.
В Москву Алю провожали все вместе: надарили ей теплых и красивых вещей, купили роскошное пальто… Ну и плакали, конечно.
«В Москве Аля сразу же позвонила Юзу и запросто пришла к нам.
Она покорила меня сразу: высокая, стройная, с огромными светлыми, прозрачными глазами. Умная и острая, необычайно простая и легкая в общении. Мы сразу заговорили с ней на “ты” и подружились на всю жизнь. Было ей тогда 24 года. Жила она до возвращения отца у своей родной тети – Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке. Жила в малюсенькой проходной комнате, спала на каком-то сундучке, и казалось, что никуда она от нас не уезжала – такая она была своя. Вскоре Аля устроилась на работу в Жургаз, во французский журнал “Ревю де Моску”, так что виделись и общались мы с ней ежедневно. Человеком она была талантливым и ярким, как вся цветаевская семья – хорошим художником, хорошим журналистом, превосходным переводчиком прозы и поэзии. Обладала даром великолепного рассказчика и говорила таким ярким, сочным, таким могучим русским языком, что окружающие ее слушали как завороженные. Поражали ее начитанность и эрудиция.
Два месяца – март и апрель 1937 года – мы трое, Аля, муж и я, молодые и веселые, провели, как мне теперь кажется, как в сказке. С интересом работали и работали много, сил хватало и на театр, и на выставки, на чтение, а главное – на встречи по вечерам – и втроем, и в большой компании. И на какие-то не пустые, а на очень интересные разговоры и рассказы. Аля и Юз наперебой вспоминали Францию и своих парижских друзей. Разговоры были серьезные и, наоборот – с безудержным Алиным хохотом. Я слушала их с огромным интересом, и все их друзья, которых так много и с такой любовью к которым они говорили, потом вошли в мою душу как близкие и дорогие люди.
Помню, как Юзу предоставили отпуск двухмесячный, и мы решили с ним ехать на Ривьеру. Тут звонит Софья Евсеевна Прокофьева из “Правды” и говорит: “Кольцов на месяц возвращается из Испании в Москву, решай сама”. Совершенно чуть не плача, я сказала, что, конечно, я никуда не поеду. Юз меня поддержал, но отменить свой отпуск не мог. Он целый март пробыл со мной в Москве и поехал на апрель. Уехал 31 марта. Печальный и одинокий. Аля бывала у меня часто. Помогала справляться с тоской».
Иосиф Давыдовыч вернулся из отпуска 23 апреля. Отпраздновали его приезд, договорились, как и где вместе будут проводить майские праздники – ведь Аля впервые была на 1 мая в Советском Союзе! Они все расписали по дням, но в ночь с 30 апреля на 1 мая в их дверь позвонили.
«Юз открыл дверь и вошли двое, и с ними дворник. И первый спросил: “Оружие есть?” и сразу обхватил Юза с двух сторон… Под утро уже раскидали книги. Да, раскрыли стол двухтумбовый, а у меня сверху ящика лежали письма Юза, которые он мне писал из Сочи. И этот спросил: “Это все Ваши?” Я говорю: “Это письма, которые он мне прислал только что. Из Сочи”. Он посмотрел на меня внимательно и, глядя в глаза, сказал: “Письма надо прочитать и разорвать”. Я до сих пор помню эту фразу. После чего он сказал: “Прощайтесь”».
Они были вместе всего четыре месяца и простились на восемь лет.
«Он видел таких заключенных… Юз мне потом как-то сказал, что у него в Париже не было такого общества, как на Колыме. Весь цвет. Мандельштам умер рядом с ним “на командировке”. Королев был с ним вместе на прииске. Какое-то название страшное – Мадьяк, где он работал. Золотой прииск. Это самый страшный прииск был, на котором люди гибли. Его товарищ целыми ночами возил трупы на лошадях…»
Нину Павловну спасала работа, вернее, Кольцов. Приезжая из Мадрида, Михаил Ефимович диктовал ей дневники. Они работали каждый день, а по воскресеньям она ездила к нему в Барвиху. 1-я книга «Испанских дневников» вышла в «Новом мире». На подходе была вторая часть. Но «Новый мир» с окончанием «Испанского дневника» не вышел. Весь тираж «пошел под нож», а рукописи, гранки, верстку – все изъяли у Кольцова при обыске. До сих пор найти вторую часть дневников не удалось.
Кольцова арестовали 12 декабря 1938 года в кабинете главного редактора «Правды» Мехлиса.
Когда после ареста мужа, 3 мая, Нина Павловна пришла на работу, Аля зашла к ней в секретариат Кольцова и, сев на подоконник, с обидой и удивлением спросила, как же они могли забыть ее на праздники – даже не позвонили?!
«Мертвая от горя, я рассказала ей, что случилось. Аля не проронила ни слова. Молчала и долго смотрела на меня остановившимися глазами, а когда кто-то прошел, так же, молча обняла меня и ушла к себе в редакцию. После этого она часто ночевала у меня и с какой-то удивительной ненавязчивой душевной тонкостью старалась поддержать меня.
Потом приехал из Франции ее отец – Сергей Яковлевич Эфрон. Было это, кажется, в конце 1937 года.

С.Я. Эфрон и А.С.Эфрон. 1937

Болшево. 1982. Фото Ю.Кошеля
Ему дали полдачи в Болшево, к счастью, недалеко от станции. Аля переехала от тети к отцу. Работала она много, но каждый день после работы, нагрузившись сумками с продуктами, неизменно ехала на дачу. Не помню, сразу ли дали Сергею Яковлевичу полдачи, или какое-то время он жил гостинице или еще где-то, я с ним познакомилась уже на даче в Болшеве. Он был очень красив: высокий, худой, с черными, начинающими седеть волосами, и с огромными светлыми глазами на темном лице. У Али были глаза отца. Это был человек, полный обаяния, интеллигентный, воспитанный, умный. Говорил он негромко, мягко, с доброй улыбкой. Движения его тоже были мягкими, не резкими. Но чувствовалась за всей этой мягкостью сила воли и твердость характера. Эрудирован он был беспредельно.

М.И.Цветаева и Г.С.Эфрон. Голицыно, 1939–1940
В июне 1939 приехала из Франции Марина Ивановна Цветаева с сыном. Было Муру лет четырнадцать, но выглядел он старше. Высокий, красивый, действительно, с наполеоновскими чертами лица. Блондин, светлые глаза, ярко очерченные губы, румянец на загорелом лице. Умный, острый, много читавший. Марина Ивановна обожала сына, все для него делала. И как могла, и сколько могла, баловала его. Мальчишка был самолюбив, порой грубоват, но нельзя забывать и возраст. Через три месяца по приезде он остался без сестры и без отца. Ошарашенный, оглушенный, потрясенный…»
Кольцов уберег Нину Павловну лишь на время, до своего ареста. Исчезали его друзья, коллеги. И его заместительницу, однофамилицу Нины Павловны, Софью Евсеевну Прокофьеву, тоже арестовали.
Ранним августовским утром 1939 года гебэшная машина увозила из Болшева Алю.
Из письма Н.П. Гордон к А.С. Эфрон 11 октября 1962 года:
«Узнав о твоем аресте, я поехала на дачу к Марине. Внешне и она, и отец были спокойны, и только глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина собралась гладить. Я сказала: “Дайте, я поглажу. Я люблю гладить”. Она посмотрела долгим отсутствующим взглядом, потом сказала: “Спасибо, погладьте, – и, помолчав, добавила, – Аля тоже любила гладить”.
Сергей Яковлевич сидел на постели, у стола, напротив меня и непрерывно смотрел, как я глажу. Его огромные застывшие глаза забыть невозможно! Дача мертвая, пустая. Я прошла на терраску, где когда-то спала ты. На твоем окне так и висели марлевые занавесочки, серые от пыли, на подоконнике стояли запыленные игрушки, висели паутинки. Терраса была совершенно пуста».
Об этом времени Нине Павловне говорить было трудно: тревога за мужа, за Алю, за близких и знакомых, судьба которых была неизвестна. Порой ей казалось, что эта изоляция навсегда.
«После ареста Кольцова я осталась без работы. Ни в какую редакцию, ни в какое издательство меня не брали. К счастью, дома у меня была маленькая машинка, и друзья иногда давали работу. Так я перебивалась месяца два».
Как-то, попросив не называть его, Нине Павловне позвонил знакомый и сказал, что есть место секретаря в Планетарии. Нину взяли – мир оказался не без добрых людей. В свободные минуты она проскальзывала в темный лекционный зал и, глотая слезы, подолгу смотрела на бархатное небо – искала их с Юзом общую любимую звезду…
Иосифа Давыдовича освободят в 1942-м, но выехать на материк не разрешат. Еще два года он будет работать на Оймяконе – на пятидесятиградусном морозе. Однажды он упадет – не выдержит сердце – и только после этого его, уже тяжело больного, выпустят на материк. Он доберется до Кургана к эвакуированным из Ленинграда матери и сестре. Вот туда, в Курган, и поедет к нему после восьмилетней разлуки его Ниночка.
Месяц «служебной командировки», которую ей устроили Алексей Яковлевич Каплер и Иван Борисович Астахов в Сценарной студии, где она уже работала редактором-организатором, пролетел как один день. Настроение у Нины и Иосифа день ото дня становилось все хуже. И когда, наконец, местный поезд привез Нину Павловну из Кургана в Челябинск, силы оставили ее. Пятеро суток до Москвы у выбитого окна, почти без сознания… Ее бил озноб. Тяжелейший сердечный приступ повлек за собой болезнь, длиною в год. Временная инвалидность. Вновь она без работы. Шел ноябрь 1944.

Н.П. Гордон. 1940-е
И вот тогда-то, буквально на пороге Сценарной студии она встретилась с Симоновым и согласилась работать с ним.
Скоро кончится война, и мужу разрешат работать в Рязани. В Москву въезд Иосифу Давидовичу был запрещен.
«Мы с Алей расстались в августе 39-го, а встретились в августе 47-го. Из Мордовских лагерей она приехала прямо к нам в Рязань, где мой муж жил со своей матерью, а я курсировала между Рязанью и Москвой. Жила Аля у нас, работала в Рязанском художественном училище.
И.Д. и Н.П. Гордоны, А.С.Эфрон в лесу под Рязанью. 1948
В феврале 1949 года ее повторно арестовали и отправили в Туруханск. Юза арестовали через полтора года, в 1951, и приговорили к десяти годам красноярской ссылки. Всех ЗК брали по списку.
Я, приехав из Рязани и придя на работу к Константину Михайловичу домой, сказала, глядя ему прямо в глаза: “Константин Михайлович, я все понимаю… Может быть, Вам теперь не удобно, чтобы я работала у Вас…” Разве можно забыть, с какой болью он посмотрел на меня и строго сказал: “Чтобы я больше этого никогда не слышал!” Он хлопотал о моем муже. И не только о нем. Писал об Алексее Каплере, Мише Слуцком, Илье Дукоре…»
Нина Павловна прощается с Симоновым, меняет свою московскую квартиру на комнату в Красноярске и уезжает к мужу. У нее на руках рекомендательное письмо Симонова к Сергею Сартакову в Союз писателей Красноярского края – она должна работать по специальности. Пусть в ссылке, но вместе с мужем. И она должна быть счастлива.
После смерти Сталина Иосифа Давыдовича не сразу реабилитировали – а только в 1954, почти под Новый год. И вот они уже в Москве. Нина Павловна работает с Симоновым, ее муж – на студии им. М. Горького и преподает во ВГИКе. Ариадна Сергеевна живет рядом – у метро «Аэропорт». Они совсем другие, чем 20 лет назад. У каждого свои раны. Но не заживают эти раны одинаково.
«С Алей мы увиделись в Москве в самом начале 1955. Вернувшись окончательно из туруханской ссылки, она подолгу жила в Тарусе. В январе 1961 года я получила от нее письмо…»
С этого письма мы начали наш рассказ о Нине Павловне Гордон. Она выполнила просьбу Али, собрав воспоминания о Марине Ивановне воедино. Свое письмо к Ариадне Сергеевне Эфрон, написанное в октябре 1962 года, Нина Павловна опубликовала в 1988 году в № 12 журнала «Вопросы литературы».
4 сентября 1975 года Нина Павловна Гордон отправила письмо в Париж Наталье Борисовне Соллогуб:
«Милая Наташа, пишу Вам о большом постигшем нас горе – 26 июля в 10 часов утра, в Тарусе скончалась Аля. Умерла она от инфаркта. Похоронили ее там же, в Тарусе, которую она очень любила и где провела детство ее мама. Она каждое лето ездила туда и жила там до осени в своем маленьком домике.
Она плохо чувствовала себя эту зиму. У нее уже была стенокардия, но лечиться она не хотела. Перед отъездом она была у меня, и я очень уговаривала ее лечь в клинику, но она считала, что деревенский воздух ей поможет, а пока она будет лежать в клинике – лето пройдет! Переспорить ее и уговорить было невозможно. Потом я получила от нее большое письмо, в котором она писала, что плохо себя чувствует, что болит сердце, что за ночь по пять-шесть приступов, а днем без счету – но ехать в Москву все равно не хотела. Пишу Вам, а сама до сих пор не могу понять, что ее нет. После Юза – Аля была самым большим, самым верным моим другом, самым дорогим для меня человеком. Мы жили рядом и постоянно общались, если не лично, то по телефону. Вы сами знаете, какой это был незаурядный, гордый и прекрасной души человек. Она была не только умна, но и мудра; очень талантлива, замечательно работала и умела так же замечательно веселиться. По натуре оптимистка, она и не думала о смерти – во всяком случае, о такой скорой смерти!
Вам, наверное, больно будет читать это письмо, так же, как мне больно его писать. Но она очень любила Вас, поэтому я так подробно о ней пишу.
Мы с ней часто и подолгу говорили о Вас и о Лельке [Бараш], она многое вспоминала, многое рассказывала так образно и живо, как только ОНА умела. С ней всегда было интересно. Глубоко думала, глубоко чувствовала и глубоко любила людей…
Обнимаю Вас крепко и целую крепко. Ваша Нина»
Осенью 1996 года Нины Павловны Гордон не стало. В ее скромной маленькой квартире на Красноармейской улице был особый мир, центром которого были несколько фотографий – мужа, Ариадны Сергеевны, Константина Симонова, Эрнеста Хэмингуэя – и книги Михаила Кольцова… Согласно воле Нины Павловны, ее архив был передан родными в РГАЛИ и Литературный музей. В архиве более пятидесяти писем Ариадны Сергеевны Эфрон и воспоминания о ней.
В Доме-музее Марины Цветаевой в Москве есть удивительная реликвия – кукла Али, которую она берегла с детства, никогда не расставаясь с ней. Куклу принесли в музей от Нины Павловны, она очень просила восстановить ее и сохранить.

Голубые хрустальные бусы Марины Ивановны украшают экспозицию Мемориального дома-музея поэта в Болшеве.
___________
Эту публикацию мы посвятили памяти Зои Николаевны Атрохиной – замечательного человека, подвижника, одного из основателей и более 25 лет бессменного директора Мемориального дома-музея Марины Ивановны Цветаевой в Болшеве.
Источники:
аудиозапись Нины Павловны Гордон (1992), воспоминания Н.А. Карра (2000), фрагменты книги «Напишите мне в альбом» (М., 2004), фотографии из собрания Дома-музея Марины Цветаевой (Москва), частных коллекций (Москва, Париж), а также из общедоступного интернета.