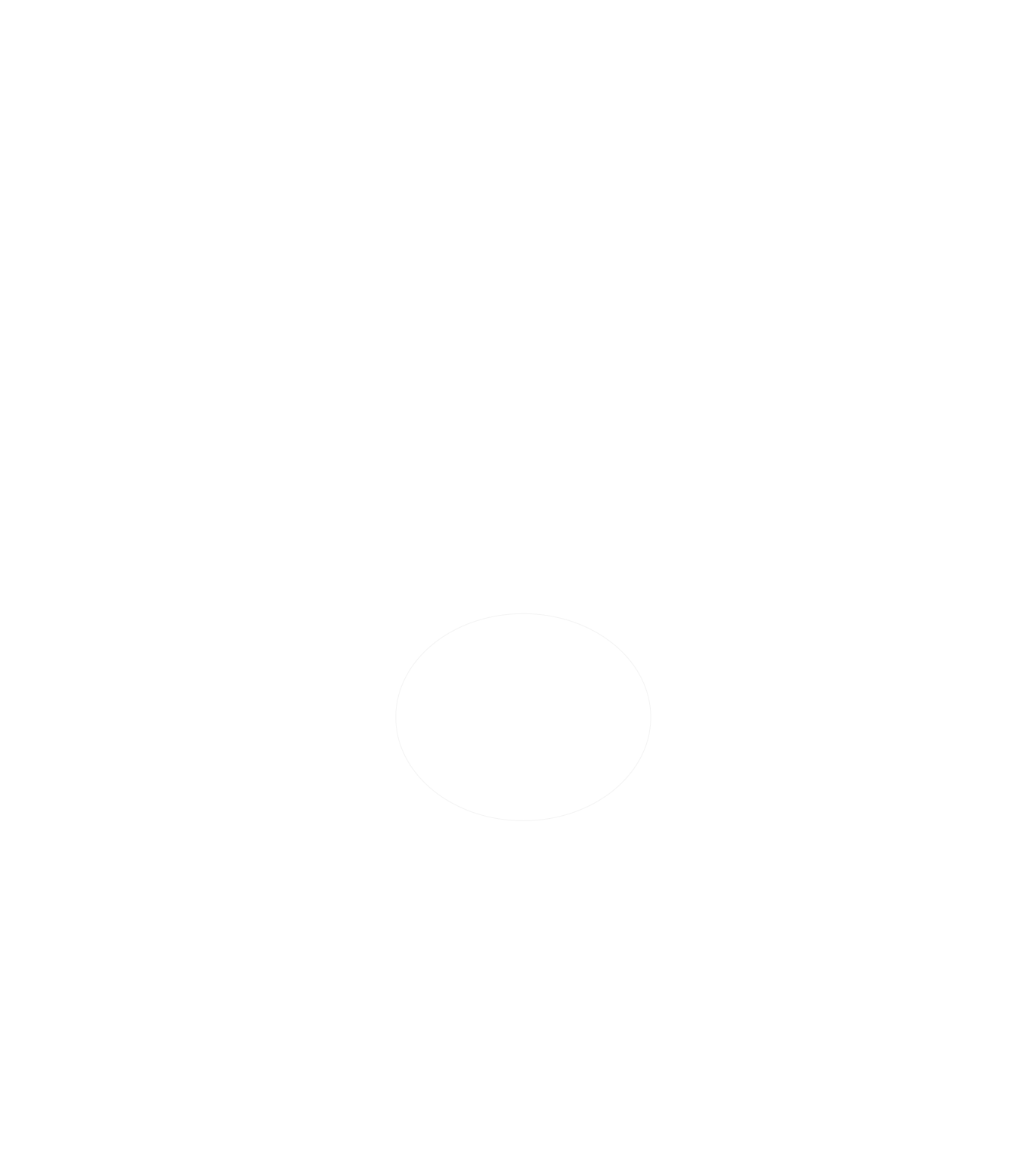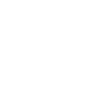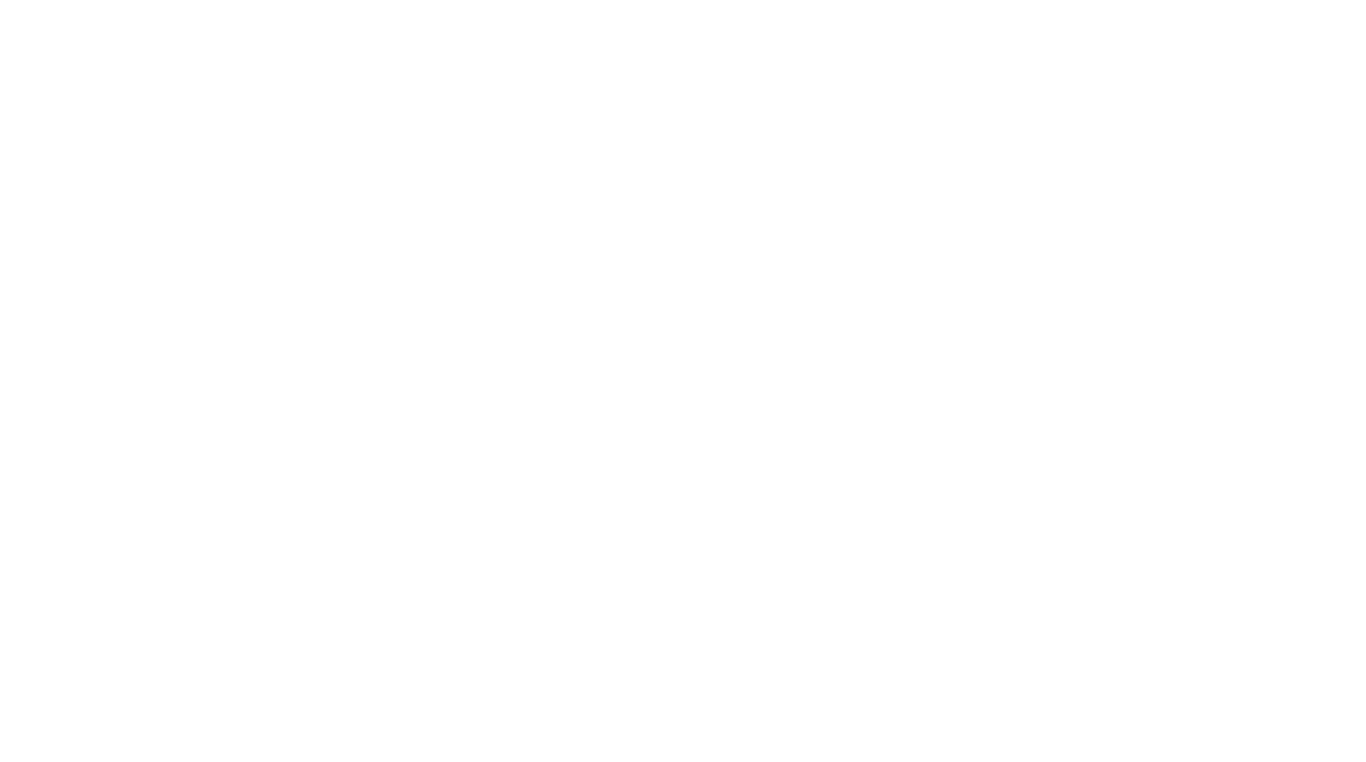«Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: − их звучание», − писала Марина Цветаева в эссе «Поэт и время».
Марина Цветаева – наследница романтической культуры XIX века, для носителей которой звук был не только физическим явлением, но обладал и метафизическим значением: «Лишь звучащая природа жива для нашей души, природа молчащая – лишь мертвое, лишенное воли вещество. Вечный покой немоты внушает нам такой же страх, что и вечная беспросветная тьма» (Й. фон Геррес). Звучание, таким образом, – явление некой духовной сущности, божественного начала.

Митюшин М.
С фотографии М.И. Цветаевой 1923 года. 1962
Как и для музыкантов, композиторов, для Цветаевой огромное значение имела категория слуха / звука / интонации: она живет прежде всего в звучащем мире, а не зрительном, – в мире, который наполнен в первую очередь звуками, а не красками. Даже творческий процесс предстает в ее сознании как вслушивание, прислушивание к внутреннему голосу: мотив, напев она слышит раньше слов: «Слушаюсь я чего-то постоянно, но не равномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда указующего − спорю, когда приказующего − повинуюсь.
Приказующее есть первичный, неизменимый и не заменимый стих, суть предстающая стихом. (Чаще всего последним двустишием, к которому затем прирастает остальное.) Указующее − слуховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу.
Левей − правей, выше − ниже, быстрее − медленнее, затянуть − оборвать, вот точные указания моего слуха, или − чего-то − моему слуху. Все мое писанье − вслушиванье. Отсюда, чтобы писать дальше − постоянные перечитыванья. Не перечтя по крайней мере двадцать строк, не напишу ни одной. Точно мне с самого начала дана вся вещь − некая мелодическая или ритмическая картина ее − точно вещь, которая вот сейчас пишется (никогда не знаю, допишется ли), уже где-то очень точно и полностью написана. А я только восстанавливаю. Отсюда эта постоянная настороженность: так ли? не уклоняюсь ли? Не дозволяю ли себе − своеволия? Верно услышать − вот моя забота. У меня нет другой» («Поэт о критике»).

Прокофьев С.С. Открытка
Стихам Цветаевой присуща особая звуковая организация: неслучайно С. Прокофьев слышал в них «ускоренное биение крови, пульсирование ритма». Е.Г. Эткинд, анализируя «материю стиха» Цветаевой, подчеркивал, что «в поэтической системе Цветаевой огромное значение имеет фонетическая мотивировка», а также интонация: «У нее особую, в классических формах неиспользованную выразительность приобретает голосовая интонация: гнев, сарказм, ирония звучат с декламационной энергией, рвущейся поверх текста…»
 М.И. Цветаева. Фотография П.Шумова. 1925
М.И. Цветаева. Фотография П.Шумова. 1925
Цветаева в статье «Эпос и лирика современной России» писала о Б. Пастернаке, что истоком рождения его поэзии, своеобразия его стиля было искусство музыки: «Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи, Маяковский по росту, а Пастернак и по рождению. Оба в стихи пришли из другого, Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. Оба в свое принесли другое: Маяковский “хищный глазомер простого столяра”, Пастернак − всю несказанность. Оба пришли обогащенные. Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно. Попутная мысль: лучше найти себя не сразу в другом, чем в своем. Поплутать в чужом и обрести себя в родном». Но о самой Цветаевой тоже можно сказать, что она пришла в поэзию «обогащенная», так как с детства была погружена в мир музыкальной культуры, унаследовала музыку «от матери», училась музыке в школе В.Ю. Зограф-Плаксиной и приобрела «музыкальность» мышления. Андрей Белый в критической статье, посвященной книге М. Цветаевой «Разлука», называет автора «поэтессой-певицей», утверждая, что строки стихотворений невозможно просто читать, «они поются»: «И забываешь все прочее: образы, пластику, ритм и лингвистику, чтобы пропеть как бы голосом поэтессы то именно, что почти в нотных знаках дала она нам». Неудивительно, что Марина Цветаева, будучи тонким ценителем классической музыки, интересовалась и творчеством современных композиторов, а с некоторыми была знакома: это Ф.А. Гартман, Г.Г. Нейгауз, С.С. Прокофьев.
О встрече Цветаевой с Прокофьевым мы узнаем из дневника композитора, в котором тот фиксирует факт знакомства: «Из других событий можно отметить лекции Карсавина о Евразийстве, очень интересные. Мы ходили туда несколько раз по приглашению Сувчинского. Там же я познакомился с Мариной Цветаевой, но дальше нескольких слов разговор не пошел» (ноябрь 1926 года). По дальнейшим записям Прокофьева и письмам самой Цветаевой можно сказать о довольно близком общении двух людей, об общем круге знакомых: «Горюю о новых местах – уклонившихся. Вера Сувчинская зовет изо всех сил, уехала 4-го. Там (St. Palais) сейчас Прокофьев, тоже зовет» (письмо Саломее Андрониковой от 15 сентября 1927 года); «Единственно неунывающие – Прокофьевы, у них, должно быть, какое-нибудь слово» (письмо С. Андрониковой от 7 июня 1928 года); «Днем елка Святослава: дети, кстати большие, маленький Риети, Таня Захарова и Лялька. Дети Цветаевой больны» (запись в дневнике С. Прокофьева от 30 декабря 1927 года); «Днем у Святослава гости, так как ему сегодня четыре года. А кстати присоединилась и масса взрослых, − перебывала пропасть народу, говорящего по-русски, по-французски, по-английски, и по-итальянски: Цветаева, Набоковы, Мария Викторовна, Вера Сувчинская, Самойленки, жена Риети, Фрида, Шуберт etc. Сын Цветаевой (три года) – огромный, прямо борец, называет Святослава Святотатом. Пили чай, затем оставшихся кормили холодным мясом и те сидели до одиннадцати. Было приятно и весело» (запись в дневнике С. Прокофьева от 27 февраля 1928 года); «Вечером Марина Цветаева, на которую продали билеты за четыреста; это много, другие за пятьдесят и сто. Очень хорошие стихи, иногда трудные. Но я все-таки отошел от стихов» (запись в дневнике Прокофьева от 17 июня 1928 года).
17 января 1929 года Прокофьев присутствовал на чтении М. Цветаевой о Брюсове: «Вечером был на небольшой лекции Марины Цветаевой о Брюсове. Много интересного, но Остроумова-Лебедева два года назад рассказывала про него картины более яркие и жуткие».
А.П. Остроумова-Лебедева – русская художница, общавшаяся с В. Брюсовым летом 1924 года (это был последний год его жизни), в Коктебеле, в гостях у М. Волошина. Брюсов долго позировал Остроумовой-Лебедевой для портрета, но она не была довольна своей работой, чувствуя, что ей не удается передать внутреннюю сущность, сердцевину личности Брюсова, и в конечном итоге уничтожила портрет. После смерти поэта в октябре 1924 года она очень сожалела о содеянном, так как это был последний прижизненный портрет Брюсова. Через некоторое время она пыталась восстановить его, но отказалась от своего замысла из-за одного мистического случая – во время болезни ей явилась тень Брюсова: «В первое мгновение я подумала, что вижу сатану. Глаза с тяжелыми-тяжелыми веками, упорно злые, не отрываясь, пристально смотрели на меня. В них была угрюмость и злоба. Длинный большой нос, высоко отросшие волосы, когда-то подстриженные ежиком. И вдруг я узнала − да ведь это Брюсов. Но как страшно он изменился! Но он! Он! Мне знакома каждая черточка этого лица, но какая перемена! Его уши с едва уловимой формой кошачьего уха, с угловато-острой верхней линией стали как будто гораздо длиннее и острее. Все формы вытянулись и углубились. А рот − какой странный рот. Какая широкая нижняя губа! Приглядываюсь и вижу, что это совсем не губа, а острый кончик языка. Он высунут и дразнит меня. Фигура стояла во весь рост и лицо было чуть более натуральной величины. Стояла, не шевелясь, совсем реальная, и пристально, злобно-насмешливо смотрела на меня. Так продолжалось 2-3 минуты. Потом − чик, и все пропало. Не таяло постепенно, нет, а исчезло вдруг, сразу, точно захлопнулась какая-то заслонка». Очевидно, в восприятии личности Брюсова Остроумовой-Лебедевой сыграло большую роль его увлечение оккультизмом. Лекция же Цветаевой о Брюсове, на которой присутствовал Прокофьев, очевидно, заключала в себе ее видение поэта, изложенное в ее эссе «Герой труда». Отметим, что в стихах Брюсова Цветаева прежде всего обращает внимание на их звуковую организацию, видя в ней только работу мастера, формалиста, не видя музыкальности как сущности души: «В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до тла лишен − песню, песенное начало. <…> Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений − антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки».
Весной 1929 года М. Цветаева побывала на спектакле «Блудный сын» (одна из последних постановок С.П. Дягилева); автором музыки был С. Прокофьев.  Возможно, дополнительный интерес к спектаклю у Цветаевой возник, потому что о нем с похвалой отзывался многолетний ее друг С.М. Волконский в статье «Открытие Дягилевских балетов»:
Возможно, дополнительный интерес к спектаклю у Цветаевой возник, потому что о нем с похвалой отзывался многолетний ее друг С.М. Волконский в статье «Открытие Дягилевских балетов»:
«Прекрасная декорация… На темном фоне очертания города, море, несколько парусов. Упрощение до последней степени, а глубина красок вызывает впечатление сочной роскоши. Благородная скупость средств… Музыка Прокофьева очень динамична, психологически могуча, не будучи “танцевальна”, она тем не менее ложится под пластическое толкование».
( На фото: С.М.Волконский)
Сама Цветаева скупо, но точно описывает свои впечатления в письме к С. Андрониковой от 11 июня 1929 года: «Была на Дягилеве, в Блудном сыне несколько умных жестов, напоминающих стихи (мне – мои же): превращение плаща в парус и этим – бражников в гребцов».

Нотное издание. Сергей Прокофьев.
Соч. 32. № 3. Берлин, 1922

Музыкальный театр Сергея Прокофьева.
Альбом. 1997
О том, как С. Прокофьев побывал в гостях у М. Цветаевой в Медоне, вспоминал Марк Слоним, сопровождавший композитора в этой поездке:
«У меня сохранились заметки о поездке в Медон в 1931 году вместе с Сергеем Прокофьевым. Он тогда закончил свой Пятый концерт, которым потом дирижировал в Берлине, и собирался писать “Ромео и Джульетту”. Он знал стихи М.И. и восхищался ими, говорил, что в них “ускоренное биение крови, пульсирование ритма”, − я напомнил ему ее слова: “Это сердце мое искрою магнетической рвет ритм”. Мы ехали из Парижа в машине Прокофьева, его тогдашняя жена Лина Ивановна сидела позади и все время переругивалась с мужем. Полуиспанка, полурусская, она в свои замечания вносила южный пыл и северное упорство. Впрочем, в одном она была права: Прокофьев был никудышным водителем – на обратном пути из Медона он на бульваре Экзельманс въехал в пилястру воздушной железной дороги и чуть нас не убил.
М.И. была очень рада нашему посещению, накормила нас супом, читала свои стихи и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то поговорку, М.И. тотчас обрушилась на пословицы вообще − как выражения ограниченности и мнимой народной мудрости. И начала сыпать своими собственными переделками: “Где прочно, там и рвется”, “С миру по нитке, а бедный все без рубашки”, “Береженого и Бог не бережет”, “Тишь да гладь − не Божья благодать”, “Тише воды, ниже травы − одни мертвецы”, “Ум хорош, а два плохо”, “Тише едешь, никуда не приедешь”, “Лучше с волками жить, чем по-волчьи выть”. Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич одобрительно.
В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи М.И., спросил, что она хотела бы переложить на музыку. Она прочла свою “Молвь”, и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы:
Емче оргáна и звонче бубна
Молвь − и одна для всех:
Ох – когда трудно, и ах – когда чудно,
А не дается − эх!
Ах – с Эмпиреев, и ох – вдоль пахот,
И согласись, поэт,
Что ничего, кроме этих ахов,
Охов, у Музы нет.
“А воображение? − спросил Прокофьев. − Разве не это самое главное у Музы?” Тут завязался спор. М.И. утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением. “Колумб воображал, что между ним и Индией − вода, океан, − говорила она, − и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения”. – “Что ж, по-вашему, − опять спросил Прокофьев, − это озарение?” – “Нет, это способность представлять себе и другим выдуманное как сущее и незримое как видимое”. Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу. Когда он заметил, что она слишком абстрактно представляет себе воображение, она обычной скороговоркой, но отчетливо выделяя слова, сказала, что во-ображение значит во-площение образа. А также предчувствие, пред-угадывание − и оно конкретно, а не абстрактно, потому что раскрывает существо предметов, не просто их описывает. И закончила со смехом “Зри в корень, но не по Козьме Пруткову”. И прибавила “А вот сюрреалисты для меня, пожалуй, слишком абстрактны”.
На обратном пути Прокофьев с восторгом говорил о том, с каким напряжением и силой М.И. все воспринимает, даже не очень важное, а потом с таким азартом начал обсуждать, какие ее стихотворения лучше всего подойдут для пения, что, вероятно, из-за этого и въехал, куда не следовало. На другое утро позвонил мне по телефону, спрашивая о стихотворении, прочитанном М.И. и кончавшемся “начинает мне монастырь сниться, отоснились вы”. Я не раз слышал его в чтении М.И., но помнил только начало [здесь Cлоним объединяет два разных цветаевских стихотворения в одно: первая строфа – действительно начало стихотворения «Полнолунье и мех медвежий…» (1915), следующие две строфы – из стихотворения «День угасший…» (1915). Стихи Цветаевой в приведенном отрывке воспоминаний Слоним цитирует с неточностями. – Ред.]:
Полнолунье и мех медвежий
И бубенчиков легкий пляс.
Легкомысленнейший час, мне же –
Глубочайший час.
Время совье,
Птенчиков прячет мать,
Рано вам начинать
С любовью.
........................
Милый сверстник,
В вас еще душа жива,
Я же люблю слова
И перстни».

М.И. Цветаева. 1930-е
27 января 1941 года Цветаева делает запись в тетради переводов о сути творчества, самом творческом процессе, импульсе к творчеству. Поводом для этих размышлений послужило выступление Прокофьева по радио, которое Цветаева прослушала за день до этого:
«Вчера, по радио, Прокофьев (пишет очередную оперу. Опера у него − функция) собственным голосом:
− Эту оперу нужно будет написать очень быстро, потому что театр приступает к постановке уже в мае (может быть, в апреле − неважно).
− Сергей Сергеевич! А как Вы делаете − чтобы писать быстро? Написать − быстро? Разве это от Вас (нас) зависит? Разве Вы − списываете?
Еще:
− Театр приступает к постановке − уже в мае.
К постановке ненаписанной, несуществующей оперы. − Прокофьева. − Это единственная достоверность.
Быстро. Можно писать − не отрываясь, спины не разгибая и − за целый день − ничего. Можно не, к столу не присесть − и вдруг − все четверостишие, готовое, во время выжимки последней рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 копеек, думая о: 20 и 20 и 10. И т.д.
Писать каждый день. Да. Я это делаю всю (сознательную) жизнь. На авось. Авось да. − Но от: каждый день − до: написать быстро… Откуда у Вас уверенность? Опыт? (Удач.) У меня тоже − опыт. Тот же, Крысолов, начатый за месяц до рождения Мура, сданный в журнал, и требовавший − по главе в месяц. Но − разве я когда-нибудь знала − что допишу к сроку? Разве я знала − длину главы: когда глава кончится? Глава − вдруг − кончилась, сама, на нужном ей слове (тогда − слоге). На нужном вещи − слоге. Можно − впадать в отчаяние − что так медленно, но от этого − до писать быстро…
− Все расстояние между совестливостью − и бессовестностью, совестью − отсутствием ее.
Да, да, так наживаются дачи, машины, так − может быть (поверим в злостное чудо!) пишутся, получаются, оказываются гениальные оперы, но этими словами роняется достоинство творца.
Никакие театры, гонорары, никакая нужда не заставит меня сдать рукописи до последней проставленной точки, а срок этой точки − известен только Богу.
− С Богом! (или:) − Господи, дай! − так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий, перевод (Франко, например).
Я никогда не просила у Бога − рифмы (это − мое дело), я просила у Бога − силы найти ее, силы на это мучение.
Не: − Дай, Господи, рифму! − а: − Дай, Господи, силы найти эту рифму, силы − на эту муку. И это мне Бог − давал, подавал.
Вот сейчас (белорусские евреи). Два дня билась над (подстрочник): “А я − полный всех даров − Науками, искусствами, все же сантиментален, готов сказать глупость банальную:
Такая тоска ноет в сердце
От полей только что сжатых!”
(Только что сжатых полей не влезало в размер.) Вертела, перефразировала, иносказывала, ум-за-раз-ум заходил, − важна, здесь, простота возгласа. И когда, наконец, отчаявшись (и замерзши, − около 30-ти градусов и все выдувает), влезла на кровать под вязаное львиное одеяло − вдруг − сразу − строки:
− Какая на сердце пустота
От снятого урожая!
И это мне − от Бога − в награду за старание. Удача − (сразу, само приходящее) − дар, а такое (после стольких мучений) − награда.
Недаром меня никогда не влекло к Прокофьеву. Слишком благополучен. Ни приметы − избранничества. (Мы все − клейменые, а Гёте − сам был Бог.) Иногда и красота − как клеймо. (Тавро − на арабских конях.) Но − загадка − либо Прокофьев, действительно, сам, как Маяковский − сам (но Маяковский был фетишист), − либо сам − нет (кроме самообмана), и, в последнюю минуту, Прокофьеву подает – все-таки Бог».
Возможно, что так резко в данном случае Цветаева настроена не столько против Прокофьева, с которым они были в добрых отношениях до этого, сколько против ситуации вокруг творчества, с которой Цветаева столкнулась в Советской России: превращение людей искусства в чиновников, а таинство создания произведения – в процесс производства.
 Георгий Эфрон. Савойя, 1930
Георгий Эфрон. Савойя, 1930 Георгий Эфрон. 1941
Георгий Эфрон. 1941
Интерес к творчеству Прокофьева испытывал и сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон. В его дневниках неоднократно звучит имя композитора, фиксируются встречи с ним, а также музыкальные впечатления от произведений Прокофьева: «Я люблю Стравинского, Чайковского, некоторые вещи Прокофьева, Штрауса и некоторые вещи Верди и Листа» (10 сентября 1940); «Вчера купил билет на 20-е число – в Концертном зале им. Чайковского превосходный концерт: будут исполнены 5-ая симфония Чайковского, “Поэма экстаза” Скрябина и концерт для фортепиано Прокофьева. Программа, конечно, отборная» (15 октября 1940 года); «Вчера по радио слушал много хорошей музыки – Мендельсон, Глазунов, Прокофьев. Я считаю марш к опере Прокофьева “Любовь к трем апельсинам” замечательным произведением» (24 ноября 1940 года); «Завтра я пойду в Концертный зал Чайковского – будет великолепный концерт музыки Прокофьева и довольно известные в СССР солисты: Батурин (вокал) и Рихтер (фортепиано). Прокофьев дирижирует Симфоническим оркестром» (8 марта 1941 года); «Вчера был на концерте Прокофьева. Очень понравилась “Классическая симфония”» (10 марта 1941 года).

Аарон Билис. Портрет С.С. Прокофьева. 1930
«Ноты <музыкальная фраза-благодарность, экспромт> Merci; très bien.
Serge Prokofieff <Спасибо, очень хорошо. Сергей Прокофьев>. 1930»
Использованы архивные материалы Дома-музея Марины Цветаевой, а также материалы альбома: Русские портреты Аарона Билиса / Дом-музей М.И.Цветаевой в Болшеве. Дом-музей Марины Цветаевой (Москва). М.: Собрание, 2017.